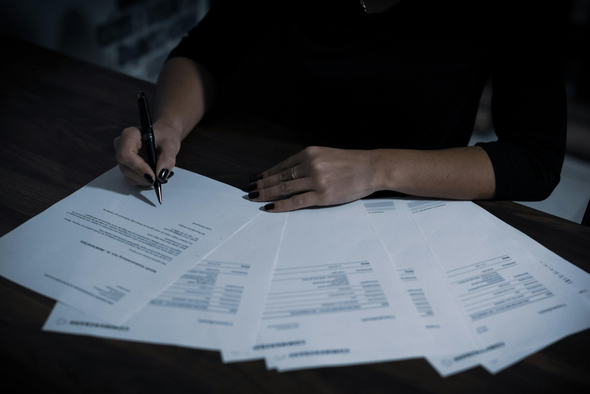Лесная катастрофа: почему Россия теряет «зеленое золото»

Последние три года российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) стремительно теряет позиции: больше всего пострадали предприятия по производству фанеры, пеллетов и пиломатериалов. Проблемы с логистикой, падение спроса, санкции и кредиты делают отрасль убыточной даже для гигантов. Сегодня есть возможности по развитию переработки древесины для внутреннего рынка, но пассивность собственников тормозит развитие бизнеса и создает риски для экологии и экономики российских регионов. «Постньюс» вместе с экспертами разобрался в причинах кризиса и узнал, что они думают о способах его урегулирования.
На сколько упали показатели лесопромышленности
По данным эксперта Агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Игоря Новоселова, в 2022 году российский ЛПК столкнулся с беспрецедентным ухудшением финансовых показателей — и это на фоне отката пиковых уровней цен в 2021 году на лесную продукцию на мировом и внутреннем рынке и в период назревания мировой глобальной экономической рецессии.
В 2023–2024 годы происходило планомерное восстановление лесной отрасли, но все же к показателям 2021-го вернуться не удалось. Наиболее пострадавшими сегментами ЛПК за три года стали производства:
- фанеры — производство сократилось на 23% — с 4,6 млн куб. м в 2021 году до 3,5 млн куб. м в 2024 году (экспорт упал на 44% — с 3 млн куб. м до 1,7 млн куб. м);
- пеллетов — производство сократилось на 53% — с 3,2 млн т в 2021 году до 1,5 млн т в 2024 году (экспорт сократился на 75% — с 2,4 млн т до 600 тыс. т);
- пиломатериалов — производство сократилось на 11% — с 44,2 млн куб. м до 39,6 млн куб. м (экспорт уменьшился на 29% — с 30,3 млн куб. м до 21,4 млн куб. м).
Относительно стойко три года выдержали производители древесных плит (кроме фанеры): ДВП/MDF, ДСП, OSB, которые и ранее ориентировались на внутренний рынок и ближайшие страны Средней Азии. Почти не потеряли позиций производители целлюлозы, бумаги/картона и изделий из них.
Как обстоят дела у лидеров отрасли
Ведущие игроки на рынке целлюлозно-бумажной продукции в России находятся в не самом лучшем положении. «Постньюс» объясняет в цифрах:
- ПАО «Сегежа Групп» — один из крупнейших лесопромышленных холдингов страны. По итогам 2024 года выручка компании составила 101,9 млрд руб., что на 15% выше результата годом ранее. При этом чистый долг увеличился до 147,9 млрд руб., а рентабельность снизилась до 9,8%. В июне этого года компания привлекла 113 млрд руб. от АФК «Система», банков и инвесторов, однако остается убыточной. Число акций выросло почти в пять раз — прибыль на акцию в будущем будет крайне низкой, даже если она появится, новых драйверов роста нет — экспорт под давлением, продукция стоит дешево.
- ООО «СТОД» — В 2024-м выручка выросла до 9 млрд руб., что на 30% больше года ранее, прибыль достигла 1,5 млрд руб. и увеличилась на 140%. При положительной финансовой динамике наблюдается 314 арбитражных дел на сумму 72 млрд руб.
- ООО «ФК Жешарт» — фанерный гигант республики Коми и градообразующее предприятие поселка Жешарт. В 2024-м выручка выросла до 7,5 млрд руб., но себестоимость поднялась на 18,5%. Валовая прибыль упала почти вдвое, чистый убыток — до 1,1 млрд руб. (против 584 млн руб. в 2023 году). Еще в марте 2025 года часть цехов остановили, 487 человек отправили в оплачиваемый простой, и лишь 636 остались работать. К поддержке предприятия подключили банк, налоговую и Минпромторг.
Владимир Ячменев — координатор Жешартского Союза Стратегических Инициатив — рассказал «Постньюс» о настрое жителей поселка.
Общественный деятель был неравнодушен к судьбе сограждан еще годами ранее, когда составлял обращение к местной администрации — уже тогда были проблемы с выплатой зарплат и отпускных. По его словам, ни собственник, ни руководитель завода в итоге не обратился за поддержкой к главе поселка. О планах стратегического развития предприятия также ничего неизвестно, цеховые комитеты бездействуют.
«В 2024-м бывший собственник имел прибыль в размере 7,5 млрд руб. И тем не менее, он захотел банкротиться в мае этого года. Знаете почему? Это даже не санкции, не сырьевые ресурсы, не логистика — это квалифицированные местные кадры», — рассказал Ячменев. Он утверждает, что многие не дождались заработной платы или захотели повысить доход — в Жешарте он равняется 70 тыс. руб. против 120 тыс. руб. в Вологде.
«Кроме того, отсутствуют профессиональные училища. Да и обучаться останутся не все — сами родители не хотят, чтобы их дети оставались в поселке», — добавил Ячменев. По его словам, он призывал к социализации производства, работающие и проживающие люди в поселке переживают за завод и хотят, чтобы он процветал. «А сейчас люди плюют на это предприятие, лишь бы получить, что им должны, да и уехать куда-нибудь подальше», — заключил Ячменев.
В диалоге с бывшими сотрудниками производства «Постньюс» выяснил: уволившиеся еще в июне 2025 года не получили расчет, хотя и обращались в трудовую инспекцию и прокуратуру. «После 20 лет работы на предприятии нас еще обвиняют в том, что хорошие специалисты оставили предприятие в тяжелую минуту, а то что нам тяжело жить без денег и нужно семью кормить — на это всем плевать», — сказал нам один из рабочих.
В чем причины кризиса
Генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций Виталий Липский рассказал «Постньюс», что причины кризиса кроются в проблемах с логистикой, снижении спроса, смещении географии экспорта и высоких ставках кредитования.
Логистика
«Основная проблема в сфере логистики касается недостаточности транспортного сообщения с новыми потенциальными рынками. Она выражена в отсутствии широких каналов для экспорта на новые рынки, в частности — до сих пор полноценно не работает международный транспортный коридор «Север — Юг» через территорию Ирана в направлении Индии и стран Персидского залива», — объяснил Липский.
Он отметил, что отсутствуют прямые транспортные связи со многими странами мира, например — с Алжиром, Марокко и Тунисом. Западные логистические операторы ушли из России, поэтому стоимость доставки из РФ довольно высока, и даже не определяет целесообразность поставки лесопродукции на эти рынки.
Спрос
«Спрос на лесопродукцию однозначно упал, причем снизился как со стороны внешнего контура в виде падения экспорта, так и в виде внутреннего потребления. Экспорт сократился не только из-за санкций и закрытия западных рынков. Этот фактор не имеет превалирующего значения. Основная проблема — падение потребления в Китае, что связано со строительным кризисом», — рассказал Липский.
Например, потребление всех видов пилопродукции в КНР упало на 30 млн куб. м, если сравнивать 2020–2024 годы. Естественно, это сказывается на российском экспорте пилопродукции, который также упал на 10–12 млн куб. м. При этом экспорт пилопродукции в западном направлении составлял всего порядка 4 млн куб. м.
География экспорта
Липский рассказал, что география экспорта после закрытия европейских рынков сместилась в Китай, который тоже испытывает большие проблемы. При этом изменения структуры экспорта сопровождается его сокращением. Освоение новых рынков идет медленно на фоне указанных логистических проблем, низкой платежеспособности некоторых рынков и опасения работы с российскими производителями, так как тему вторичных санкций никто не отменял.
Льготы и кредиты
«Падение внутреннего потребления связано с сокращением льготных ипотечных программ. Наблюдается и радикальное сокращение новых инвестиционных проектов на фоне высокой ставки кредитования, которая практически останавливает целесообразность реализации любого инвестиционного проекта», — добавил Липский. По его словам, многие предприятия испытывают проблемы с пополнением оборотных средств и не имеют средств для освоения новых рынков. Особенно негативно вся сумма факторов сказалась на малом и среднем бизнесе.
Как государство поддерживает отрасль
Экономист Александр Цыганов отметил в разговоре с «Постньюс», что господдержка для современного российского ЛПК предполагает льготное кредитование в Фондах развития промышленности, созданных в регионах России.
«В первую очередь это реализовавшиеся в 2020-е годы программы “Проекты лесной промышленности”, “Проекты развития” и “Модернизация и расширение”. Не везде эти программы полностью реализовали потенциал в ЛПК, но есть и успехи. Например, в 2025 году есть заметный рост производства древесных пеллет, используемых как биотопливо в частных домах и в промышленных котельных, есть потенциал роста экспорта пеллет в Китай», — объяснил Цыганов.
Предприятие ЛПК может получить льготы по срокам заготовки, хранения и вывоза леса, где не применялась индексация ставок платы за лесной ресурс или воспользоваться программами Российского экспортного центра (РЭЦ). Однако этой поддержки может и не хватать для модернизации производств, требующих больших долгосрочных вложений, а проекты для малого бизнеса существенно ограничены проблемами с поиском пассионарных россиян, готовых на создание нового предприятия и связанные с этим риски.
Виталий Липский подчеркнул, что отраслевые предприятия пытаются найти варианты взаимодействия с государством, которые им помогут остаться на плаву.
«Однако характер происходящих изменений радикальный — проблемы носят глобальный характер, на которые государство не может повлиять в существенной части. Тем не менее, точечные и региональные вопросы могут быть решены совместно с государством и, стоит полагать, что по мере адаптации рынка к новым реалиям этот процесс будет усиливаться», — отметил генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций.
Генеральный директор Союза лесопромышленников Республики Коми Анатолий Байбородов добавил в беседе с «Постньюс», что долговая нагрузка предприятий в регионе перед ФРП или банками сейчас не критичная.
«Большая проблема долгов — с расчетами за поставленную продукцию или оказанные услуги между компаниями, находящиеся в предбанкротном состоянии. При этом запроса на явную господдержку нет», — подчеркнул Байбородов.
Как кризис сказывается на лесах
Научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков сравнил текущее положение с кризисом 1990-х, когда в связи с переходом к рыночной экономике объем лесозаготовок в стране сократился в три раза. Тогда это привело к увеличению запаса древесины, а лес в России стал мощным стоком углерода.
«Сокращение объемов лесозаготовок благоприятно сказывается на экологическом состоянии леса. Но есть исключение: однопородные лесные насаждения, чаще — ели, чувствительные к нарушениям, вредителям и корневым гнилям. Если своевременно не вырубать спелые насаждения, они погибнут от лесных болезней. Именно поэтому существует экологический риск для лесного хозяйства России, но только если основная нагрузка заготовки древесины приостановится больше, чем на 10 лет», — рассказал Замолодчиков.
Как можно урегулировать кризис
Отрасль, когда-то именуемая «зеленым золотом» России, уже балансирует на грани массовых банкротств.
«Лесной комплекс нуждается в неотложном реформировании. На сегодня есть возможности по развитию переработки древесины для внутреннего рынка, в том числе есть потребность в лесоматериалах для ИЖС, есть и перспективные проекты строительства многоквартирных малоэтажных домов из переработанной древесины. Сложности велики, но и перспективы для небольших населенных пунктов, малых российских городов тоже есть», — отметил экономист Цыганов.
Эксперт добавил, что если ситуация будет развиваться инерционно, такие просчеты могут привести не к единичным, а уже к фатальным финансовым и экологическим потерям компаний ЛПК. Это показывает потребность в инвестициях для модернизации отрасли и формирования действенной программы ее развития, учитывающей потребности квалифицированных кадров.